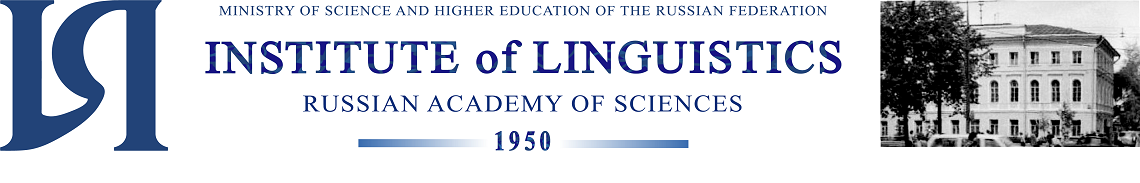(вернуться к разделу «Воспоминания»)
Андрей Александрович Кибрик, доктор филологических наук, профессор, директор Института языкознания РАН.

Текст основан на интервью в рамках юбилейного цикла к 70-летию Института языкознания.
Я поступил в аспирантуру Института языкознания в 1984 году, после окончания Московского университета. Надо сказать, что я был знаком с Институтом и до этого, поскольку здесь работала моя мама [Антонина Ивановна Коваль], и я бывал здесь еще школьником. Помню еще старое здание Института, которое находилось неподалеку, за зданием Пушкинского Музея — Институт там располагался до 78-го или 79-го года. Это было такое длинное двухэтажное вытянутое здание, раньше это было здание конюшен усадьбы Голицыных, находящейся по соседству. Потом Институт перевели вот в это здание, где он с тех пор и находится.
В аспирантуре моим руководителем была Виктория Николаевна Ярцева, которая в то время заведовала германским сектором и группой «Языки мира». Мое знакомство с Ярцевой и поступление к ней в аспирантуру как раз и было связано с проектом «Языки мира», который начался в середине 70-х годов. Это была идея Виктории Николаевны — описывать различные языки по некоторому универсальному, типологически ориентированному формату. Группа лингвистов нашего Института, в первую очередь Виктор Алексеевич Виноградов, Андрей Александрович Королев и Виктор Яковлевич Порхомовский, подготовили такую типологически ориентированную схему. Оперативное руководство группой «Языки мира» осуществляла Марина Андреевна Журинская [wiki]. Когда я учился в МГУ, она у нас вела спецкурс по этой теме, там мы с ней познакомились, и ей захотелось меня как-то пристроить в Институт. Хотя я был еще c детских лет знаком с Институтом, идея сотрудничества принадлежала именно Марине Андреевне, до нее ни у кого такой идеи не возникало. Она рассказала об этом Ярцевой, и Ярцева пригласила меня на аудиенцию. Затем я поступил в аспирантуру и в течение трех лет был аспирантом при группе «Языки мира». После того, как я закончил аспирантуру, я был взят в Институт на должность лаборанта, а после защиты кандидатской диссертации (весной 1988 года) был переведен на должность младшего научного сотрудника. С тех пор, в течение всех этих лет, я работаю здесь, так что практически весь мой период работы в лингвистике связан с Институтом.
В то время была очень большая «дистанция власти», как сейчас говорят. Дирекция была чем-то очень удаленным от обычных сотрудников, и даже просто войти в приемную, где сидел секретарь директора, требовало некоторого «преодоления себя», во всяком случае для сотрудников младшего поколения. И, в общем, сюда почти никогда и не ходили. Это была достаточно стандартная ситуация для советских времен. Руководители — это были такие небожители, до которых дотянуться было не так легко. Они могли тебя вызвать, и в этом случае, конечно, сотрудники сюда приходили, но это бывало крайне редко и всегда по какому-нибудь нехорошему поводу; по хорошей причине такого обычно не происходило. В последующие годы, как и в целом в стране, здесь произошла кардинальная демократизация, и сейчас даже, наверное, трудно себе представить, что сотрудник не может спокойно войти в приемную, в канцелярию дирекции, однако раньше это было именно так. В то время директором был Георгий Владимирович Степанов, известный романист, человек с достаточно богатой биографией — он в свое время участвовал в войне в Испании в 30-е годы, и вообще был человек известный и весьма величественный. Я один раз говорил с ним, он как-то по-отечески меня поддержал как нового аспиранта, однако других контактов с ним, в общем, не было.
Дистанция с Ярцевой тоже была большая. Ее кабинет был там, где сейчас бухгалтерия — там две комнаты, касса и соседняя с ней, по-моему они тогда были объединены, и это был ее кабинет. Она там подолгу заседала со своими коллегами по германскому сектору. Я помню, что иногда мне нужно было к ней попасть, чтобы что-то подписать, и это могло вылиться в ожидание в течение всего дня. Например, если она сидела и обсуждала что-то со своей коллегой Натальей Николаевной Семенюк, то самое большее, что я мог тогда сделать, это приоткрыть маленькую щелочку, заглянуть туда, убедиться в том, что они еще не закончили, и ждать, пока разговор завершится. В то время прерывать разговор вышестоящего начальства было невозможно, и в общем это было довольно тяжело — масса времени уходило на такое ожидание под дверью. Причем важно было все время быть начеку, потому что, если кто-то успеет туда проскочить раньше тебя, ты опять оказываешься последним в очереди. При этом Виктория Николаевна все-таки была, я бы сказал, относительно «близка к народу», она любила общаться. У нас с ней было огромное расстояние в возрасте — она была, скажем так, ровесница моей бабушки, то есть я для нее был просто младенец. Но Виктория Николаевна любила поговорить — я думаю, со всеми, но и со мной, в частности, тоже. У нее была очень длинная, богатая биография, до войны она работала в Ленинграде, потом в какой-то момент перебралась в Москву, но у нее было особенно много воспоминаний о ее ленинградском периоде, о молодости. Она любила рассказывать истории, и когда ей хотелось рассказать историю, приходилось этому соответствовать — я должен был выслушивать ее монологи столько, сколько это было необходимо с ее точки зрения, иногда много часов подряд. Иногда она вызывала сотрудников домой — сейчас это место называется Песчаная улица, в районе метро «Сокол», а тогда эта улица называлась Георгиу-Дежа, у нее там была квартира, и там тоже проходили длительные аудиенции.
В то время я начал активно интересоваться языками индейцев Северной Америки, а у Виктории Николаевны был в жизни эпизод, когда она тоже столкнулась с этими языками. В 30-е годы, в духе «коммунистического интернационала», в Ленинград приезжал американский лингвист, этнограф и одновременно носитель языка сахаптин (или незперс) по имени Арчи Финней, он достаточно известен в истории американской антропологии1. В те годы носители языков, индейцы очень редко становились самостоятельными исследователями, и это был один из таких редких случаев. Финнея, как представителя «угнетенных народов в мире капитализма», пригласили в Советский Союз, и некоторое время он жил в Ленинграде. А Виктории Николаевне руководство поручило позаниматься с ним его языком, и она с ним работала как с информантом. Она об этом любила рассказывать, и эти рассказы всегда были очень подробными. Мне, в то время очень молодому человеку, к сожалению, хотелось максимально «свернуть» эти разговоры и поскорее уйти, чтобы заниматься какими-то своими делами, которые казались срочными и актуальными. Конечно, по прошествии времени, как это обычно и бывает, я жалею, что никак это не фиксировал, не конспектировал, не записывал на магнитофон — бытовых диктофонов тогда не было, но какие-то средства аудиофиксации были. И это всё ушло, остались только очень обрывочные воспоминания, а, конечно, исторических знаний о том, как развивалась наша лингвистическая наука, у Виктории Николаевны было очень много, и жалко, что это не сохранено ни в каком систематическом виде.
Должен сказать, что для нашего Института всегда было характерно очень свободное и либеральное отношение к направлениям деятельности сотрудников. В какой-то степени это зависело от общей обстановки и общей научной политики — в советское время она была одна, в постсоветское время другая, но в целом установка всегда была на то, что научные сотрудники сами лучше, чем кто бы то ни было, знают, чем им нужно заниматься. Общие темы отделов и других подразделений скорее «слепливались» из интересов конкретных сотрудников. Была такая установка, что каждый научный сотрудник является самостоятельным исследователем и самостоятельной научной единицей, и слишком плотно руководить тем, чем ему следует заниматься, не следует. Поэтому обстановка академической свободы в общем всегда была характерна для Института, и это правильно.
Существует и обратная идеология — когда формируется некий научный проект с определенными обязательствами что-то сделать в течение определенного времени, и в этом случае руководитель такого проекта уже обязан требовать от участников сделать именно то-то в такие-то сроки. В какой-то степени это тоже представлено у нас — в частности, таков проект «Языки мира», но все-таки большинство сотрудников Института работают самостоятельно по своей собственной научной программе. Когда я начинал здесь работать, у меня тоже были определенные обязанности, связанные с «Языками мира», но что касается моей индивидуальной научной работы, я с самого начала имел возможность выбирать сам, что я хочу делать. Тему диссертации я тоже выбирал сам. Виктория Николаевна была таким руководителем, который не занимался повседневным «плотным» руководством — видимо, она поняла, что я в состоянии сформулировать тему и сам дойти до результата, поэтому она лишь изредка и слегка контролировала происходящее, просто убеждалась, что события как-то развиваются.
Поскольку я являюсь выпускником отделения теоретической (тогда — структурной) и прикладной лингвистики филфака Московского университета, мои научные установки скорее определялись этим, а не включением в какую-то школу, имевшуюся в Институте языкознания. Сюда я пришел, будучи сформирован отделением, которое было в то время лидером в области лингвистического образования — и, я думаю, остается им и сейчас. Мне не пришлось, так сказать, «перестраиваться» под какие-то научные направления, имевшиеся в Институте. В духе академической свободы я мог делать то и так, что и как я считал интересным на тот момент.
Моим первым непосредственным куратором была Марина Андреевна Журинская. Она недолго здесь проработала — в какой-то момент она решила, что проект «Языки мира» является безнадежным, было даже такое выражение, что это «лингвистический БАМ2», то есть такая вещь, которую можно запланировать, но нельзя построить. В общем, она уволилась из Института, и Виктория Николаевна была тогда несколько дезориентирована таким поступком и не знала точно, как реагировать. Руководство было возложено на Виктора Павловича Калыгина, это был известный кельтолог, ученик Виктории Николаевны, в дальнейшем он в течение ряда лет работал заместителем директора Института и, к сожалению, рано ушёл из жизни. На тот момент, когда я здесь появился, в группе было несколько сотрудников. Там уже работали Ольга Иосифовна Романова и Наталья Васильевна Рогова — они работали почти с самого начала возникновения этой группы и занимались редактированием статей для будущего издания. Также в группе в то время работал Яков Георгиевич Тестелец, ныне очень известный лингвист, кавказовед, синтаксист, специалист по ряду областей языкознания; сейчас он возглавляет у нас кавказский отдел. Также в течение некоторого времени в группе работала Мария Семёновна Полинская. В какой-то момент она уволилась из Института и уехала за границу, и впоследствии стала американским лингвистом, очень значительным и заметным.
В то время издание «Языки мира» планировалось как классическая энциклопедия — предполагалось, что она будет выпускаться томами в алфавитном порядке названий языков, то есть, нужно было начать, условно говоря, с «Абазинского языка» и дальше двигаться до буквы «Я». Эта идея, видимо, и сделала этот проект таким тяжелым, что Марина Андреевна решила его покинуть. Позже Виктория Николаевна придумала другой подход, который потом и был реализован — издание по генеалогическим или ареальным группам языков. Тогда оказалось, что это становится более обозримым, потому что легче подготовить группу статей по языкам, каким-то образом связанным, нежели по языкам, которые просто находятся рядом по алфавиту названий. Этот более прагматичный подход начал реализовываться, и издание стало выходить в виде отдельных томов начиная с 1993 года, когда вышел первый том по уральским языкам3.
Для меня «Языки мира» — это очень ощутимый проект, я занимаюсь им уже много лет. Не могу сказать, что меня всё в нём удовлетворяет: формат был придуман в 80-е годы, и сейчас кое-что можно было бы сделать иначе. При это выбранный формат очень качественный и необычайно устойчивый, он выдерживает испытание временем. И надо продолжать и двигаться дальше столько, сколько будет возможно. Для меня этот проект не был главным центром моих научных интересов, но это очень важная часть работы в Институте — и моей, и моих коллег по группе «Языки мира» (ныне сектор ареальной лингвистики).
В течение многих лет я занимался теорией и типологией референциальных систем и в конечном счете это было оформлено в виде монографии «Референция в дискурсе», которая была издана на английском языке в 2011 году4. В этой книге я постарался описать то, как я представляю себе референциальный процесс в теории и в типологическом аспекте. Там описана общая теория референциальных явлений, основанная на представлениях о том, какие когнитивные процессы протекают у говорящего человека при речепорождении, и на довольно большом эмпирическом материале представлен вариант описания того, как референциальные выражения могут быть устроены в языках мира. Во многом это мой собственный материал, полученный в ходе полевой работы по различным языкам. Эта тема меня долгое время занимала. Также я стал интересоваться теорией дискурса — под дискурсом в данном случае понимаются максимально объемные языковые выражения, неограниченного размера, имеющие очень разную структуру. C середины 90-х годов я преподавал этот предмет на кафедре в МГУ, и мне было необходимо системно организовать эту область для себя. Это стало темой моей докторской диссертации («Анализ дискурса в когнитивной перспективе»).
С конца 1990-х гг. я с группой коллег, в первую очередь с Верой Исааковной Подлесской, в течение длительного времени занимался изучением организации и структуры устной речи. Наш проект был подытожен книгой «Рассказы о сновидениях» 2009 года5, в которой мы написали эскизный вариант грамматики устного русского языка, который очень сильно отличается от стандартных представлений, основанных на письменных литературных текстах. То, как люди говорят устно, и то, как они пишут, тем более в литературном контексте, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Постепенно пришло осознание того, что устный, бытовой дискурс — это основная, базовая форма использования языка и вообще-то лингвистика должна именно с нее начинать, а письменные, литературные тексты описывать как отход от этой канонической ситуации. Эта идея мне кажется фундаментальной, и постепенно она вылилась в проект по так называемой «мультимодальной коммуникации», которым я занимаюсь уже пятый год. Это проект, поддержанный грантом нового фонда — Российского Научного Фонда, в котором мы смотрим на то, как люди осуществляют естественную коммуникацию между собой. Мы занимаемся аудио- и видеофиксацией естественной коммуникации и интересуемся тем, как люди строят вербальные сообщения, как устроена несегментная фонетика, просодия нашей речи, а также кинетическим поведением — это жесты рук и других частей тела, движения глаз. Всё это является единым комплексом, единым «оркестром», который каждый из нас постоянно задействует в естественной коммуникации. Лингвисты традиционно очень сужают свой объект изучения, они смотрят только на вербальный канал, но понятно, что в реальности этот вербальный канал встроен в гораздо более широкий контекст. И вот мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся понять этот контекст, зафиксировать все его составляющие части и предложить единый формат, в котором они могут рассматриваться.
Еще одна вещь, которую я должен упомянуть — на протяжении всей своей научной работы я продолжаю интересоваться коренными языками Америки. Я занимаюсь языками одной из крупнейших семей Северной Америки, атабаскской семьей. В течение ряда лет я занимался языком на́вахо (или нава́хо), который распространен на юго-западе Соединенных Штатов, но потом я переключился на один из языков Аляски, верхнекускоквимский язык — это очень маленький язык, на нем говорит буквально полтора-два десятка людей. Это исчезающий язык: он всегда был малым, а сейчас уж совсем «микроскопический». С типологической точки зрения атабаскские языки очень интересны, необычны, я бы даже сказал, уникальны в ряде отношений. Я стремлюсь к тому, чтобы написать полное грамматическое описание верхнекускоквимского языка. У меня существует черновой вариант, но для того, чтобы это стало готовым продуктом, еще необходимо пройти определенную дистанцию. Занимаюсь аннотированием текстов на верхнекускоквимском языке — это очень трудоемкий процесс, что знает каждый лингвист, который когда-либо пытался аннотировать устную речь. Это тоже дело моей жизни, которым я занимаюсь и намерен продолжать.
В 2017 году я был избран директором Института языкознания. Когда я соглашался на то, чтобы принять участие в выборах, я, конечно отдавал себе отчет в том, что это очень непростая работа, но все-таки не до конца. Ситуация устроена таким образом, что люди, которые выдвигаются на это место, если они не работали до этого в дирекции, на самом деле совершенно не представляют, с чем им придется иметь дело. Например, одно из важнейших постоянных занятий — это принимать непрерывный, ежедневный поток различных сигналов сверху, которые поступают в адрес дирекции. Постоянно появляются какие-то новые направления деятельности, которые нужно осуществлять, и это жизненно необходимо — если хотя бы на неделю или даже на несколько дней прекратить реагировать на эти внешние стимулы, то жизнь просто остановится, наступит коллапс. Это такие «невидимые миру слезы»: что-то постоянно происходит, каждый день что-то новенькое. Часто эти сигналы носят очень грозный характер, и слова «Вы персонально отвечаете за всё», в очень серьезной форме, я слышу каждую неделю по много раз. Для меня это, конечно, значительное изменение восприятия окружающего мира — то, что произошло за год с лишним, как я нахожусь в этой должности. Но это просто правила игры; проблема в том, что, вступая в игру, ты не знаешь, какие у нее правила, а узнаешь их постепенно. И выйти из этой игры уже нельзя — ты вступил в нее, не зная правил, но ее нужно вести до конца.
Мне кажется, что у нас в нашей дирекции довольно активная, динамичная команда. Мы стараемся сделать для Института то, что возможно в имеющихся объективных обстоятельствах. В частности, стараемся сделать более благообразным внешний вид нашего здания. Вот сейчас происходит ремонт и слышно, что снаружи пилят металл. Причем этот ремонт было очень непросто организовать. Внезапно в июне [2018 года] появились небольшие деньги на косметический ремонт здания, и поскольку у нас здание — памятник архитектуры, нужно огромное количество согласований для того, чтобы эти деньги освоить. Эти согласования удалось закончить к тому моменту, когда еще не начались серьезные морозы. Поэтому сейчас мы не можем терять ни одного дня и максимально быстро стараемся продвинуть этот ремонт, чтобы закончить его до зимы. Фасад здания мы должны привести в вид, более приемлемый для центра Москвы. Управа местного муниципального образования периодически указывает нам на то, что наш институт торчит в центре Москвы как такой «гнилой зуб», буквально в трехстах метрах от Кремля. Но сейчас он будет перекрашен, и я надеюсь, что станет чуть более приемлемым с точки зрения внешнего вида. Еще неплохо было бы крышу поменять, она в совершенно ужасающем состоянии — и собственно кровельное покрытие, и несущие конструкции чердака. Этому зданию больше 150 лет, и неясна история реконструкции — видимо, многие несущие элементы существуют еще с тех пор и не менялись. Мой заместитель по общим вопросам Виктор Николаевич Перлей — профессиональный инженер-строитель, и он хорошо в этом разбирается. Он нашел самые «болевые точки», и мы стараемся их зафиксировать в безопасном состоянии до того момента, когда сможем провести более капитальный ремонт. А для того, чтобы его провести, нужно выполнить предварительно цепочку условий — в частности, нужно получить финансирование от министерства, а для того, чтобы его получить, нужно получить сначала некие документы из Росреестра, а мы их пока не получили, и всё это цепляется одно за другое. Это те изменения, которые нам предстоит осуществить, но будем стараться их делать так, чтобы не мешать сотрудникам работать.
А в остальном, как я говорил и в своих предвыборных выступлениях, мне кажется, что всегда нужно сочетать два не полностью совпадающих и в некотором смысле полярных приоритета. С одной стороны, должна быть преемственность по отношению к имеющимся традициям, с другой стороны — нужно развиваться, нельзя просто застрять в некотором состоянии; даже если оно нас устраивает, все равно нужно иметь в виду какие-то перспективы и изменения. И вот мы пытаемся найти какую-то золотую середину между двумя этими полюсами: не делать ничего такого, что нарушало бы хорошую коллегиальную, профессиональную, доброжелательную атмосферу, характерную для Института, и в то же время думаем о том, какие вещи нужно развивать. Например, вчера на нас обрушилась информация о возможности открытия новых лабораторий в Институте. Это сообщение пришло вчера, а ответ нужно дать сегодня до двух часов дня. Надо сказать, сотрудники Института проявили невиданное рвение в этом вопросе, пришло много заявок на создание новых лабораторий. Обсуждение шло вчера всю вторую половину дня, весь вечер, всю ночь, в 4, в 5 утра люди продолжали присылать проекты будущих лабораторий, и сейчас нам нужно буквально в течение часа подвести итоги, распечатать эти заявки и отправить их в министерство до двух часов дня, как они от нас потребовали. Вот это изменения, происходящие здесь и сейчас6.
Наш институт является, как иногда говорят на бюрократическом языке, «головным учреждением» в области языкознания в нашей стране, и наша дирекция стремится к тому, чтобы упрочить и зафиксировать этот статус, — чтобы те общие социальные процессы, которые каким-то образом затрагивают нашу науку, развивались с учетом мнения ученых нашего Института. Например, недавно в Государственной Думе прошли слушания по вопросу о сохранении малых языков России. Несколько дней назад был опубликован указ Президента Российской Федерации о создании Фонда по сохранению и изучению родных языков России7, и в этом контексте были проведены эти слушания. Меня пригласили туда как представителя Института, и я надеюсь, что люди, принимающие решения в государственном масштабе, будут прислушиваться к рекомендациям экспертов. Безусловно, надо приветствовать создание нового фонда, который будет финансировать что-то, связанное с языками. Но надо понимать, что главный упор в области сохранения языков должен быть не на школьное образование, как это явно имеет место при создании этого Фонда, а на то, чтобы языки передавались детям от родителей в семье. Эта простая истина, лежащая на поверхности и очевидная каждому, как-то ускользает, об этом приходится говорить, и нет уверенности, что это будет услышано. Поэтому я хочу пожелать Институту, чтобы наши профессиональные знания, которые у нас накоплены, были востребованы в социуме. А поскольку все ученые, как говорится в известном шутливом выражении, это люди, которые «всю жизнь занимаются удовлетворением собственного любопытства за государственный счет», — чтобы они имели возможность как-то повлиять на происходящие процессы. Чтобы это не была просто «башня из слоновой кости», в которой мы занимаемся своим делом: вы нас корми́те, но не трогайте, мы будем делать, что мы хотим, и нас ничего не касается. Вместо этого подхода возможен подход, при котором ученые, которые действительно содержатся за счет общества, имели бы возможность как-то влиять на происходящие в обществе процессы в тех точках, где это нужно и полезно. Мне кажется, это главное, что можно пожелать: чтобы общество прислушивалось к экспертному мнению.
- 1. Американский антрополог Арчи Финней (Archie Phinney, 1904—1949) был аспирантом МАЭ в 1932—37 гг., а также доцентом ЛИФЛИ в 1935—36 гг. В 1935 г. в СССР вышел русский перевод его работы «Сахаптин. Очерк языка Nez Perce», в 1937 г. Финней защитил диссертацию «Нумипу. Их обычаи и фольклор».
- 2. Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, строительство которой продолжалось в СССР на протяжении многих десятилетий и стало самым дорогим советским инфраструктурным проектом, однако так и не было завершено в советские годы в полном объеме.
- 3. Языки мира. Уральские языки. М.: Наука, 1993.
- 4. Kibrik, Andrej A. Reference in discourse. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- 5. Кибрик А.А., Подлесская В.И. (ред.). Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса Москва: ЯСК, 2009.
- 6. По результатам рассмотрения заявок в 2019 году в Институте была создана Лаборатория исследования и сохранения малых языков.
- 7. Указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации» был подписан Президентом РФ 26 октября 2018 года.